НЕМЕЦКИЕ: СРЕДНИЕ И ВЕРХНИЕ
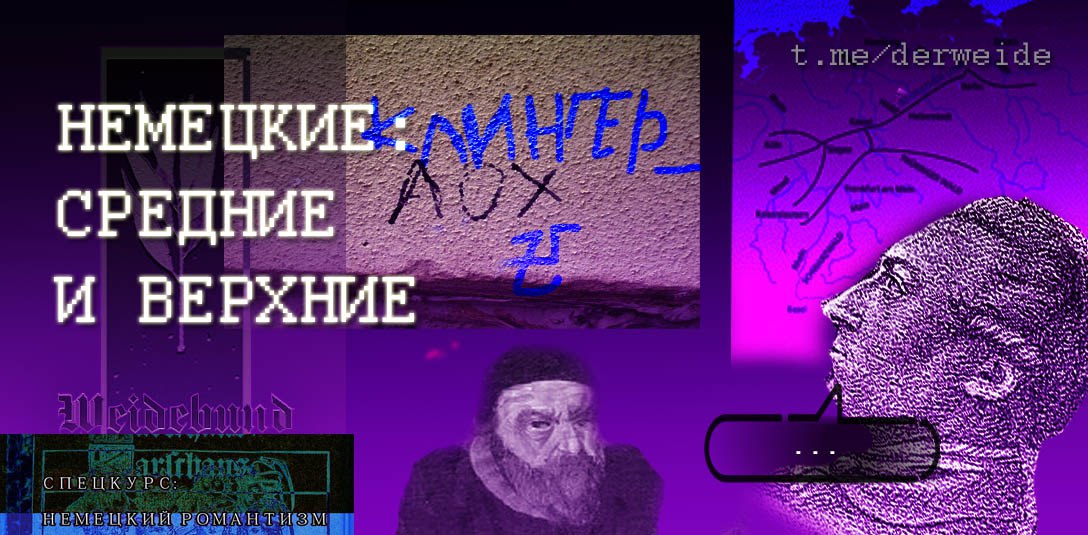
Первичный слом многовекового застоя в немецкой литературе принято отсчитывать от появления пьесы «Буря и Натиск» Клингера и некоторые, преимущественно – русскоязычные исследователи, относят именно его к предтечам одноименного революционного литературного движения, при этом не имея до настоящего времени даже полного перевода работы с немецкого языка на русский.
Следует отметить, что мировое филологическое сообщество сходится на том, что его произведение – не более, чем эксперимент с синтетическими приемами и отказ от прежних институциональных языковых особенностей, который наметил ряд художественных противодействий неоклассическим установкам прежних лет. Позднее, самого Клингера даже подвергали осмеянию за его бегство в Россию, а название его пьесы прижилось в результате сатирической инверсии, а не направленного увековечивания.
Однако, факт обращения Фридриха Максимилиана фон Клингера в «Федора Михайловича» и поныне будоражит представителей российских кафедр германистики, приумножая в русскоязычных источниках заблуждение о революционном характере его пьесы, а личная направленность автора на поиск удобных военных должностей при дворе, не требующих проверки в боях, но только канцелярской и переводческой деятельности, в результате приведшая его из-под немецкой короны на службу к Павлу I через протекцию Принца Вюртембергского посредством скорейшего определения отставного солдата австрийской армии в свиту своей дочери Софии Марии Доротеи Августы Луизы, а в последствие – Марии Федоровны, супруги Павла I, предоставило дополнительную почву заинтересованным лицам для возвышения его быстро угасшего таланта.
Однако, рассмотрим первые всходы «штюрмерства» (от «Sturm und Drang», «Буря и натиск» – реальное литературное течение 70-х гг. XVIII в., «проложившее дорогу» свободы столпам немецкого романтизма, в частности – Новалису, к личности которого приурочена данная заметка и речь о котором пойдет далее) в контексте революционной значимости для решения проблем языка и жанра именно в появлении отдельных персоналий или инициативных групп, содвигающих с серьезному пересмотру старого канона, а для этого проведем краткий экскурс в состояние писательского сообщества и его центральные ориентиры в период с середины XV до начала XIX вв.
В первую очередь, следует вспомнить о такой знаковой фигуре, определившей основной инструментарий немецкой поэтики не во вред уникальным историческим жанрам и специфике языка, как Мартин Опиц, а позднее, облагороженный фон Боберфельд (1597 –1639).
Вышедшая в 1624 году под названием «Buch von der Deutschen Poeterey» («Книга немецкой поэзии») – опицеский magnum opus, ставший настольной книгой любого германоязычного лирика на несколько десятилетий вперед, впервые поднимает вопрос о необходимости соотносить фигуративные потребности текста и лингвистические, в частности мелодические, особенности немецких диалектов.
Внезапно случившееся в начале XVII века «барокко», преимущественно подсмотренное у английских драматургов на примере готовых постановок без учета особенностей жанра и демонстрируемых реалий, носило сугубо подражательный характер, вырождаясь в примеры заказной пьесы для представителей высшей знати – мелкие бытовые сценки, нередко наделявшие своих участников обезличенностью великих идеалов древности без понимания к кому, собственно, возводится отсылка, перемежались с восторженными копиями стихотворных размеров, не отвечавших потребностям языка.
Помимо жанровой и стилистической неразберихи, сама установка на использование единого языкового часто уступала сочинениям на латыни, демонстрируя его использованием особый контраст над отживающими вольностями просторечных течений эпохи Возрождения.
Так, в частности, Фридрих Дедекинд задает мало пожившему течению «гробианизма» или, почти дословно – «хулиганства», название созвучно своей латиноязычной и спонсированной второй фигурой Реформации после Лютера – Филиппом Меланхтоном, едкой сатирической поэме «Grobianus», в которой автор предоставляет развернутое руководство к наихудшему поведению с утра и до вечера, где главное действующее лицо – святой Гробиан в самых красочных тонах изобличает негативные последствия пьянства, обжорства и дурного тона, но в инверсивной манере упредительного совета.
Позднее, ее переводчик – Каспар Шейдт столкнулся с проблемой адаптации классического латинского элегического стиха в стремлении применить все смысловые и ритмические оттенки к особенностям немецкого языка, что заставило его пойти на хитрость и избрать самый часто используемый для записи нравоучительных и около-богословских поэтических форм размер «knittelvers».
Примечательно, что именно к этому поэтическому метру также обращается и вышеупомянутый Опиц, переводя акцент не на подсчет слогов, как ранее было принято в старом верхненемецком на манер классической французской стихослагательной теории, а на ударения, объясняя это фонетическими потребностями правил прасодии нового верхненемецкого языка.
Немецкая литература периода Возрождения не теряет созидательного облика и общей нравственно-просветительской тональности, сохраняя при этом верность традиционно народным формам. При этом, стоит помнить, что основной проблемой исконно национальных жанров всегда становилось их несоответствие фонетическим и метрическим стандартам речи высшего и среднего сословия.
Помимо территориального деления, т.н. Benrather Linie («линия Бенрата») к концу XI века закончила разделение немецкого языкового пространства на два диалектических множества – Niederdeutsch (т.н. «нижненемецкий»: нижнефранконский, западный и восточно-нижненемецкий) и Hochdeutsch (т.н. «верхненемецкий»: центральный и верхненемецкий).
Подобная искусственная граница в условном лингвистическом атласе именуется «изоглоссой» и не является единственной – конкретно Benrather Linie представляет собой целую группу себе подобных, но незначительно различных друг от друга (к примеру: линия dat/das, dorp/dorf и пр.) и проходит от Аахена на западе через Бенрат, пересекая Рейн, почему и получила именно такое название, до востока Германии около Франкфурта-на-Одере в районе Берлина и Дессау и через бывшую Восточную Пруссию.
Именно она условно дробит страну на сегменты, в некоторых источниках получая название линия maken/machen, по региональном различию степени отклика местных диалектов на Zweite Lautverschiebung («второй языковой сдвиг»), в результате которого произошло фонетическая модификация использования ряда согласных и их сочетаний.
К примеру, индоевропейское /g/ в результате первого языкового сдвига получает фонетический значение /k/, а после второго преображается в /xx/ или /x/, а именно – ic → ich, maken → machen.
Если вас заинтересовала эта информация, предлагаю обратиться к работам известного немецкого лингвиста-классика, специализировавшегося не только на вопросе языковых изменений, но и на немецкой мифологии – Якоба Гримма и целую серию одноименных работ по немецкой грамматике и истории языка.
Из вышеозначенного следует, что часть фонем была невоспроизводима в ряде регионов или кардинально меняла смысл и назначение речи, чем составляла трудность при переводе и адаптации.