НЕМЕЦКИЕ: СРЕДНИЕ И ВЕРХНИЕ
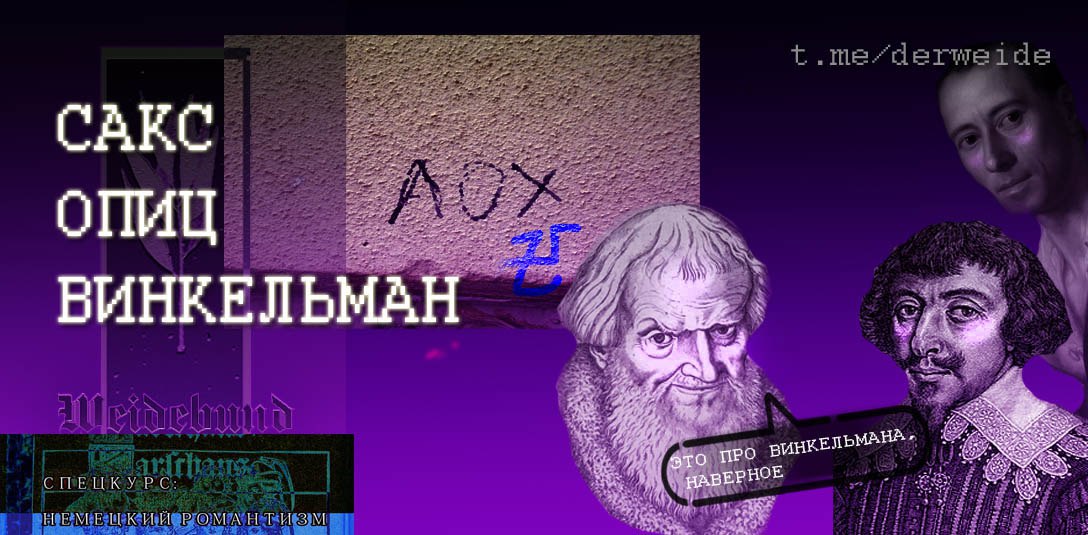
К примеру, наипопулярнейшие Fastnachtspiel («фастнахтсшпили») – сценки, приуроченные к празднованию Fastnacht (*«фахтснахт» – швабские предпасхальные народные гуляния) изначально были представлены в общенемецком языковом поле швабско-алеманнским диалектами и, соответственно, относились к верхненемецкому, что не создавало трудностей для их потенциальной книжной адаптации, однако сами сюжеты концентрировались вокруг ситуативных розыгрышей или искусственных споров героев между собой, не представляя возможного интереса для культуры образованных горожан и перерождающейся культуры Bürger («бюргер»), импонировавшей увеселительному повествованию с соблюдением внимания к проблемам нравственности и обновленной религиозной догматики.
Ганс Сакс – ведущий драматург XVI в., яркий представитель культуры «Meistersinger», впервые задался поиском формулы оптимального синтеза идеалов ранней Реформации и позднего Возрождения с культурными и диалектическими особенностями традиционных жанров.
Сакс помещает ряд «легендарных» народных персонажей и узнаваемые драматические этюды, взятые с сохранением уникальной художественно-повествовательной специфики из площадных сценок и примитивных традиционных распевов, в событийную вселенную обычного прогрессивного горожанина и среду его повседневных интересов, облекая итог в современный язык.
Значение свершившегося переворота нередко умалчивается – ряд исследователей продолжают видеть в Саксе типового для своего времени выходца из социальных низов, сына простого портного, чрезмерно мотивированного перспективой улучшения своего положения в обществе посредством «Meistersinger» («майстерзингер» или букв. «мастер-певец») и дополнительной книжной активности при филиале гильдии в Нюрнберге.
В годы расцвета деятельности Ганса Сакса, «мейстерзингерству», на тот момент представленному, преимущественно, выходцами из бюргеровского сословия образованными и относительно просвещенными горожанами, имевшими доступ к начальной грамотности и цеховому образованию, предшествовало еще более сложное явление, давшее начало рыцарской балладной лирике – «миннесанги» (полагается, со ср.в.нем переводится дословно как «любовная песня», от «minne» – «любовь»).
Обратим внимание, что именно образ «майстерзанга» нередко замещает собой классического лирического героя, еще не оформившегося как драматургический концепт, или же становится осевой мелодической и экстрерьерной акцентуацией в музыкальных и литературных произведениях после XVI в.
Начавшись от беспутных крайностей сказителя-визионера, не подчинявшегося строгой этической и номинально – гражданской нормам, пришедшего в немецкую культуру из движения «Spielmann» (нем. – «игрец»), иначе – странствующих европейских менестрелей, оформляющееся направление свободных немецких певцов получает конкретное правовое измерение только к концу XIII века через утверждение запрета на осуществление сценической активности (напомним, что «шпильман» – это мультиинструменталист, коммерциализирующий свои навыки и живущий на заработанные средства) без прикрепление к гильдии, которая, по факту, осуществляла учет новых кадров, аккумуляцию внутренней кассы, сбор платежей и функциональное разделение подочетного городского района на секции, вне утверждения места в которой, музыкант лишался права просить деньги за выступление или нарушать городское спокойствие без предупреждения и согласия властей.
Почему же «шпилманы» не химеризировались «минненсангом», как это обычно случается и по какой причине именно этому вопросу в заметке отводится такая внушительная часть вступления?
Отметим, что первой попыткой структурно помыслить расхождение реалий языка и потребностей поэтического жанра впервые будут предприняты только через сто лет в выше уже упомянутой «Buch von der Deutschen Poeterey» Мартина Опица, который, кстати, тоже не являлся представителем знати, родившись в семье мясника, как и Иоганн Винкельманн (1717-1768), к нему обратимся позднее – сын бедного сапожника, сумевший проучиться в нескольких гимназиях Берлина, только благодаря тому, что при поступлении в самую первую из них ему приходилось осуществлять уход за ее слепым директором.
Сакс понимал, что необходимо прокладывать культурологический путь из «болота» популярных народных сюжетов, сконцентрированных на вульгарной сатире и «темных проявлениях» человеческой личности, в реалии нравственно-кичливых бюргеров, идейно раздираемых Реформацией и почти-апокалиптическими страхами последних эпидемий, которые не могли определиться с достаточной нормой недопустимого в литературе, но и, одновременно с тем, скучали от однообразности «домовых» пьес, хвалебных песнопений и бесталанных подражаний французской и английским сценам.
Причем, если Опиц выступал не только в роли категоризатора метрик стихосложения, исходя из лексической необходимости времени, но и нравственным примирителем – как указано выше о линии Бенрата, изоглосса задает географическую демаркацию языка, но не учитывает явления городской и сельской миграций, а также регулярное обновление внешней лояльности со Церкви, одобряющей все больше количество около светской книги для реализации под совей рекомендацией (вспомните про тот же «Grobianus», спровоцировавший появление целого движения последователей).
Согласно лингвистическим ожиданиям, верхненемецкий язык закрепляется за регионами центра (центра и средней части) и юга, нижненемецкий – севера Германии, однако сам Опиц дополнительно подчеркивал проблему расхождения диалектов Центра и Севера применительно к протестантским изданиям, распространявшим представления об обновленной светской религиозности, что определило необходимость создания общелитературного немецкого, способного уравнять культуру чтения как придворной элиты, так и богословов, просвещенных горожан.
Особое внимание в вопросе культурологического влияния следует уделить средневерхненемецкому языку (вспомним, что именно он является предшественником современного верхненемецкого), совокупно вспомним также о певцах традиции «миннезанга» - как известно, именно этот тип лексики считался языком придворной литературы периода Гогенштауфенов, активно способствовавших насаждению правил определенного интеллектуального этикета в кругах приближенной знати.
Стоит заметить, что у средневерхненемецкого, расцвет поэтической популярности которого приходился на XIII, именно по причине повышенной востребованности последнего для литературы, собственные письменные правила появляются только в XIX благодаря усилиям Карла Лахманна – немецкого медиевиста и филолога, в рамках своих научных интересов занимавшегося переводом наследия миннензангеров.
(FORTSETZUNG FOLGT)